Масонство и журналистика
Во всяком случае, принадлежность к братству вольных каменщиков многих крупных людей XVIII - первой четверти XIX века (Н.И.Новиков, М.М.Херасков, М.И.Кутузов, Н.М.Карамзин, А.С.Грибоедов, П.А.Чаадаев, А.С.Пушкин) бесспорна и, как представляется, свидетельствует о заметной роли масонской идеологии и практики в культурной и интеллектуальной жизни России этого времени.
Больше всего известен как издатель книг и журналов. Но мало назвать его издателем – он издатель-гений, подлинный создатель книжного дела в России, настоящий просветитель, человек громадного организаторского таланта и энергии.
Отделить Н.И.Новикова - мистика и масона от Н.И.Новикова – просветителя трудно, да очевидно, и не нужно. Гораздо важнее здесь другое. Объективное содержание деятельности Н.И.Новикова и его кружка намного переросло первоначально отведенные им сравнительно узкие масонские рамки и немало способствовало росту общественного самосознания и пробуждению умственных интересов русских людей. В этом, собственно, и состоит историческое значение его деятельности.
Без обширных масонских связей, денег и интеллектуальной поддержки, Н.И.Новиков едва ли бы много сделал. Соединенный капитал Типографической компании составился из взносов ее 14 учредителей - братьев-масонов.
В своих журналах Н.И.Новиков обличал пороки и язвы современной ему русской
действительности, в том числе и крепостное право, высказывал горячее сочувствие тяжелой судьбе народа и свою веру в силу просвещения, с широким распространением которого связывал надежды на более справедливые и гуманные отношения между людьми.
Беспристрастный разбор обстоятельств жизни Новикова и обвинений, которым подвергся этот замечательный человек, приводят к одному заключению: провинности его незначительны, заслуги перед обществом на пути просвещения – неисчислимы.
Первоначальная русская литература и русская журналистика имела связь с масонством. Масонство было первой свободной самоорганизацией общества в России, только оно и не было навязано сверху властью». По убеждению Бердяева именно «в масонстве произошла формация русской культурной души, оно вырабатывало нравственный идеал личности. Православие было, конечно, более глубоким влиянием на души русских людей, но в масонстве образовались культурные души петровской эпохи и противопоставлялись деспотизму власти и обскурантизму... В масонской атмосфере происходило духовное пробуждение...».
Только в последние годы в России стали появляться серьезные исторические труды, рассказывающие о деятельности русских масонов.
При этом, как обычно случается, неотредактированная цензором история поставила многих в неловкое положение. Политики, сделавшие из патриотизма своего рода профессию и объяснявшие все российские проблемы неким перманентным «масонским заговором», с лупой искавшие страшные масонские знаки в газетах времен горбачевской перестройки, вдруг обнаружили, что ходят по улицам масона Баженова, учат детей по книгам масона Грибоедова, восхищаются победами масона Кутузова и так далее. Даже сам символ русского патриотизма - памятник Минину и Пожарскому на Красной площади - и тот оказался работой вольного каменщика Мартоса. Получилось, что под микроскопом искали то, на что нужно смотреть, задрав голову.
Определенное неудобство испытали также многие российские историки и искусствоведы.
Не по своей вине, а в силу известных обстоятельств они многие годы тщательно вымарывали из своих трудов любые масонские мотивы. Теперь в этих работах обнаружились очевидные и серьезные пробелы.
Современное отечественное масонство состоит из интеллигенции - преподаватели, журналисты, предприниматели, офицеры, в основном отставные. Оно крайне стеснено в материальном отношении и едва может содержать себя. Расцвета масонства, как в начале XIX века, в России не будет: ни нравственно, ни интеллектуально она к масонству не готова. Россия - антимасонская страна, у нас скорее может возродиться нацизм, фашизм, но точно не масонство.
Николай Иванович Новиков
Николай Новиков известен в истории как человек, неуёмного характера, талантливый журналист. Он является основателем многочисленных издательств. Николай Иванович был инициатором открытия многих учебных заведений. И был арестован и заключён под стражу за политическую деятельность. Арест Новикова совпал с самым расцветом его таланта и активности. По освобождению из тюрьмы возобновить свою просветительскую и общественную работу Николаю Ивановичу уже не удалось. Но он оставил многочисленные работы, которые принесли ему известность и смогли принести пользу Российскому государству.
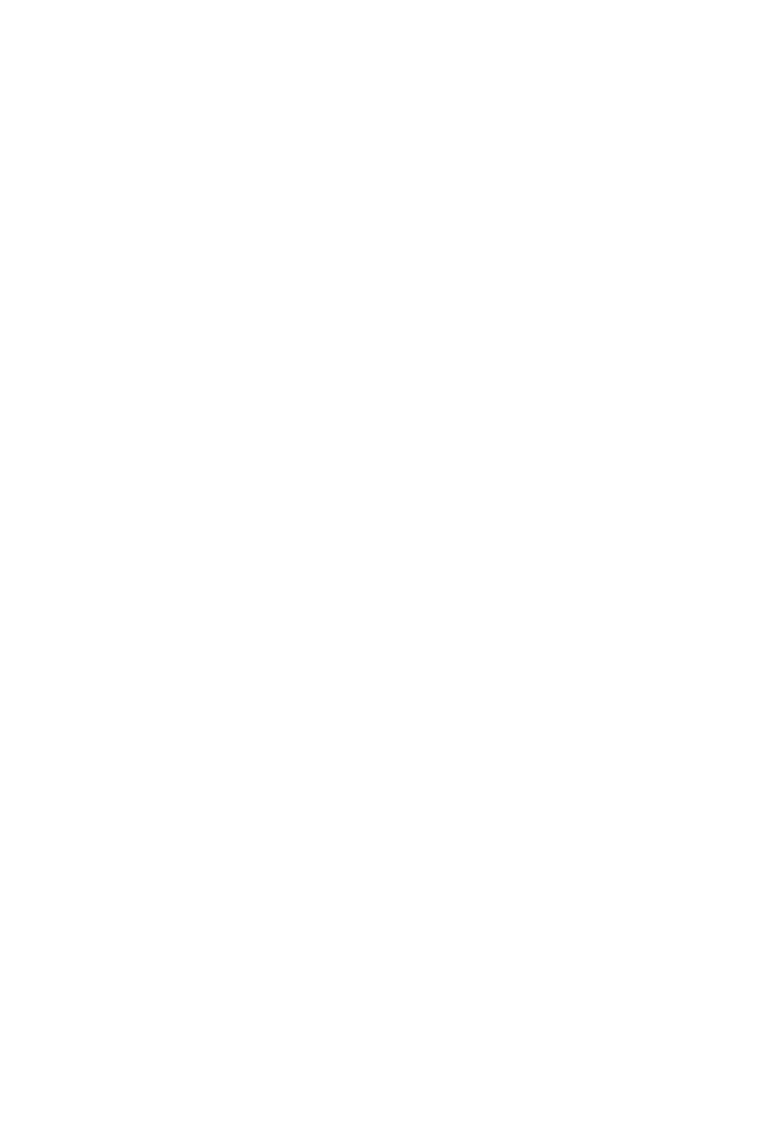
В 1769 году он прекращает свою деятельность в составлении законов «Новых уложений», так как работа над новыми сводами была закончена. Николай Иванович начинает работать переводчиком. В этом же году Новиков получает разрешение у Екатерины II на создание журнала «Трутень». Но вот редакционную политику в издании он ведёт в разрез с пожеланиями императрицы и всего высшего общества.
Екатерина II предпочитала видеть в подобных изданиях «обличие пороков, но не людей». Приветствовалось наличие юмора и сатиры. Но Новиков критиковал и обличал в своих статьях конкретных представителей власти. Даже сам эпиграф в «Трутне» был взят из басни Сумарокова: «Они работают, а вы их труд ядите».
Собственно, эта строчка и задала тон всему изданию. Это был своеобразный вызов, в котором Николай Иванович обличал существующий порядок. Он чернил дворянство своими статьями. Его героями становятся вымышленные персонажи, жадные и грубые помещики Змеян и Безрассуд, а вот народ представлял Правдолюб, который вступил в полемику с самим автором этих изданий. Читатели безусловно понимали, что в России нет ни справедливости, ни правды, ни порядка.
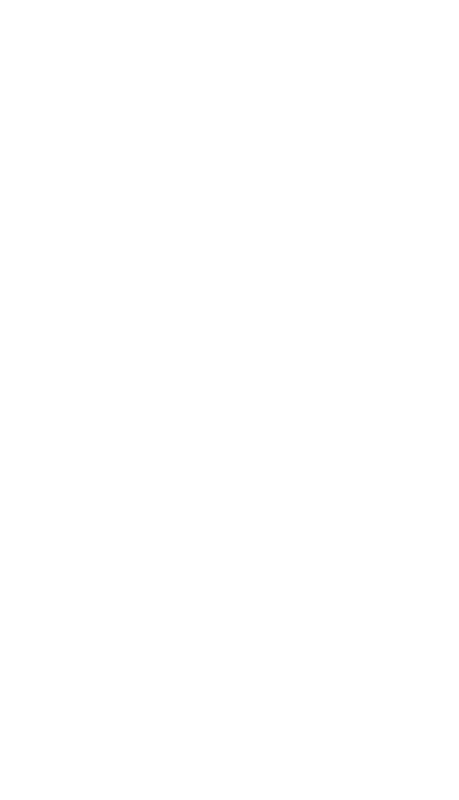
Но масонская верхушка руководителей стремится увидеть Новикова в своих рядах, и даже в разрез с правилами знакомят Николая Ивановича с содержанием первых 3-х ступеней. И он соглашается. Однако немного позднее он из елагинской системы переходит к Рейхелю, в которой адепты занимаются исключительно самопознанием и нравственностью. Со временем Новиков становится ключевой фигурой в одном из движений масонской ложи. Он становится вдохновителем «Дружеского общества», которое направленно исключительно на просветительскую работу и издание советующей литературы. Это общество совместно Типографическим обществом выпускает огромное количество литературы содержащие масонские идеи.
Екатерина II очень подозрительно относилась к этому движению. Она впоследствии даёт распоряжение об обысках в книжных лавках Николая Ивановича. По её распоряжению митрополит Платон проводит разговор с Новиковым с целью испытать его в Законе Божьем и вместе с тем изучить продаваемую литературу на содержание. Платон не усмотрел в суждениях Новикова ничего противозаконного, и признал его верным православной церкви, но это, однако не помешало ему предписать к уничтожению четыреста шестьдесят его сочинений.
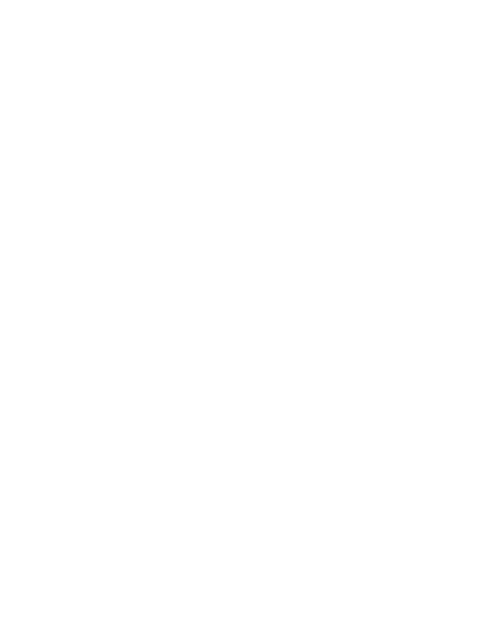
Николай Михайлович Карамзин
То, что сделал для русской культуры Николай Карамзин, не удавалось до него никому. Он стал реформатором русского языка, создателем «нового слога», который ориентировался не на книжный стиль, а базировался на разговорной речи. Он внедрял европейскую культуру, глубоко чтил российские «древности», его творчество ознаменовало собой целую эпоху, которую Белинский назвал «карамзинским периодом». По мнению того же Виссариона Белинского, Карамзин положил начало многим направлениям в литературе. Его интересовала журналистика, критика, исторические повести, проза и поэзия, и конечно же, изучение истории. И если Пушкина называют «наше всё», то Карамзина по праву можно считать «нашим Всем».
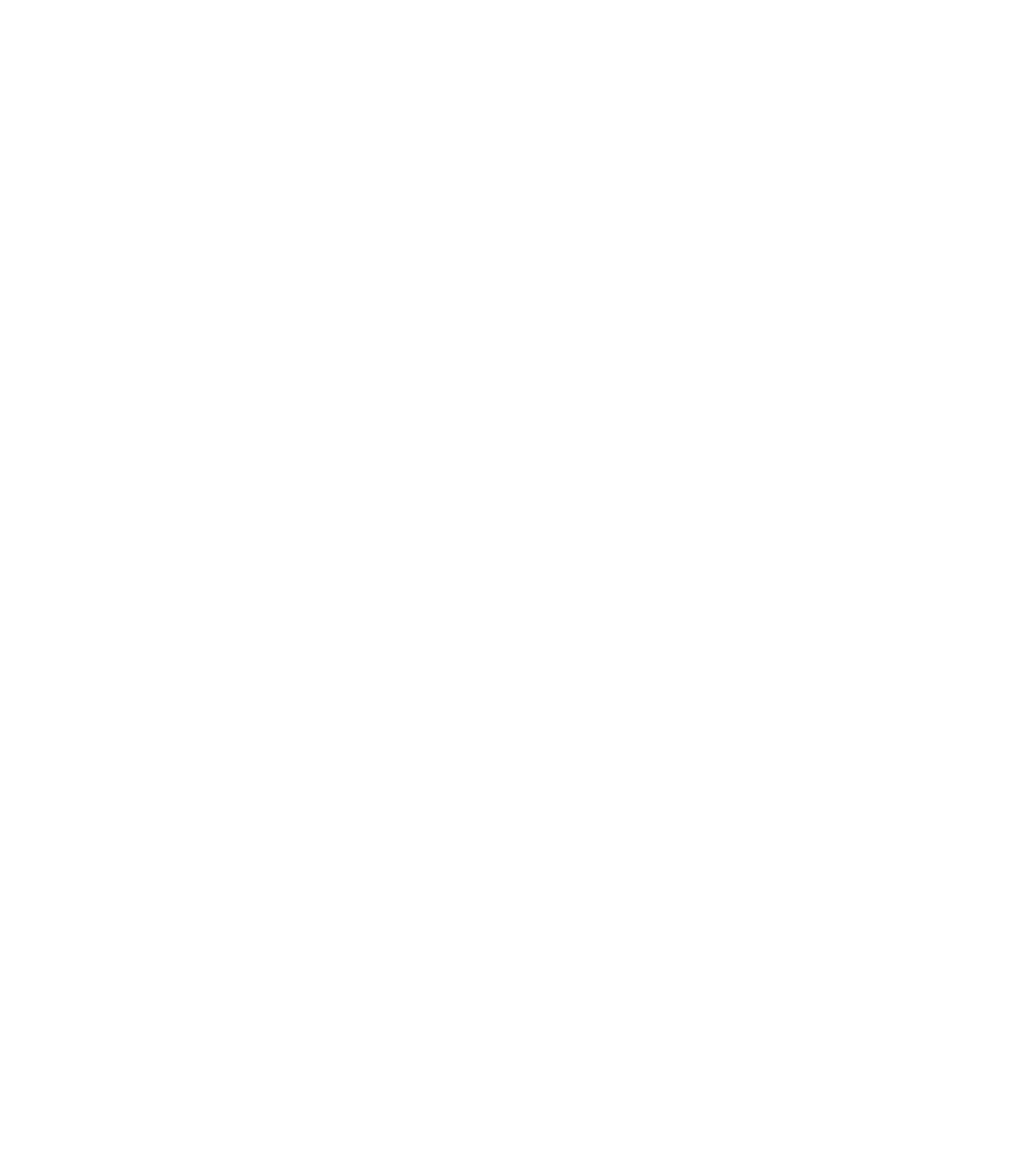
В 1783 году по настоянию отца Карамзин поступает на службу в Преображенский гвардейский полк, но вскоре выходит в отставку и уезжает в родной Симбирск.
В Симбирске происходит важное для молодого Карамзина событие — он вступает в масонскую ложу «Золотого венца». Это решение сыграет свою роль чуть позже, когда Карамзин вернется в Москву и сойдется со старым знакомым их дома — масоном Иваном Тургеневым, а также писателями и литераторами Николаем Новиковым, Алексеем Кутузовым, Александром Петровым. Тогда же начинаются первые попытки Карамзина в литературе — он участвует в издании первого русского журнала для детей — «Детское чтение для сердца и разума». Четыре года, проведенных им в обществе московских масонов, оказали серьезное влияние на его творческое развитие.
В это время Карамзин много читает популярных тогда Руссо, Стерна, Гердера, Шекспира, пробует переводить. «В кружке Новикова началось образование Карамзина, не только авторское, но и нравственное».
В 1789 году следует разрыв с масонами, и Карамзин отправляется путешествовать по Европе. Он объехал Германию, Швейцарию, Францию и Англию, останавливаясь преимущественно в больших городах, центрах европейского просвещения. Карамзин посещает Иммануила Канта в Кёнигсберге, становится свидетелем Великой французской революции в Париже. Именно по результатам этой поездки он пишет знаменитые «Письма русского путешественника». Эти очерки в жанре документальной прозы быстро обрели популярность у читателя и сделали Карамзина известным и модным литератором. Тогда же, в Москве, из-под пера литератора появляется на свет повесть «Бедная Лиза» — признанный образец русской сентиментальной литературы. Многие специалисты по литературоведению считают, что именно с этих первых книг начинается современная русская литература.
В 1791 году начинается деятельность Карамзина-журналиста. Это становится важной вехой в истории русской литературы — Карамзин основывает первый русский литературный журнал, отца-основателя нынешних «толстых» журналов — «Московский журнал». На его страницах выходит ряд сборников и альманахов: «Аглая», «Аониды», «Пантеон иностранной словесности», «Мои безделки». Эти публикации сделали сентиментализм основным литературным течением в России конца XIX века, а Карамзина — его признанным лидером.
Но скоро следует глубокое разочарование Карамзина в прежних ценностях. Уже через год после ареста Новикова закрывается журнал, после смелой карамзинской оды «К Милости» милости «сильных мира» лишается сам Карамзин, едва не попав под следствие.
Большую часть 1793–1795 годов Карамзин проводит в деревне и выпускает сборники: «Аглая», «Аониды» (1796). Он задумывает издать нечто в роде хрестоматии по иностранной литературе «Пантеон иностранной словесности», но с большим трудом пробивается через цензурные запреты, не допускавшие печатать даже Демосфена и Цицерона…
Разочарование во Французской революции Карамзин выплескивает в стихах:
Но время, опыт разрушают
Воздушный замок юных лет…
…И вижу ясно, что с Платоном
Республик нам не учредить…
В эти годы Карамзин все больше переходит от лирики и прозы к публицистике и развитию философских идей. Даже «Историческое похвальное слово императрице Екатерине II», составленное Карамзиным при восшествии на престол императора Александра I — преимущественно публицистика.
В 1801–1802 годах Карамзин работает в журнале «Вестник Европы», где пишет в основном статьи. На практике его увлечение просвещением и философией выражается в написание трудов на исторические темы, все более создавая знаменитому литератору авторитет историка.
Указом от 31 октября 1803 года император Александр I дарует Николаю Карамзину звание историографа. Интересно, что титул историографа в России после смерти Карамзина не возобновлялся.
С этого момента Карамзин прекращает всякую литературную работу и в течение 22 лет занимается исключительно составлением исторического труда, знакомого нам как «История государства Российского».
Александр Радищев
Стал одной из самых противоречивых и трагических фигур в истории русского Просвещения. Увлеченный либеральными идеями писатель, открытый противник самодержавия, еще при жизни он заработал славу первого русского революционера. За бунтарское «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева сослали в Сибирь, но он продолжал писать философские труды о государственном устройстве и создал проект «Гражданского уложения», полный идей об отмене крепостного права.
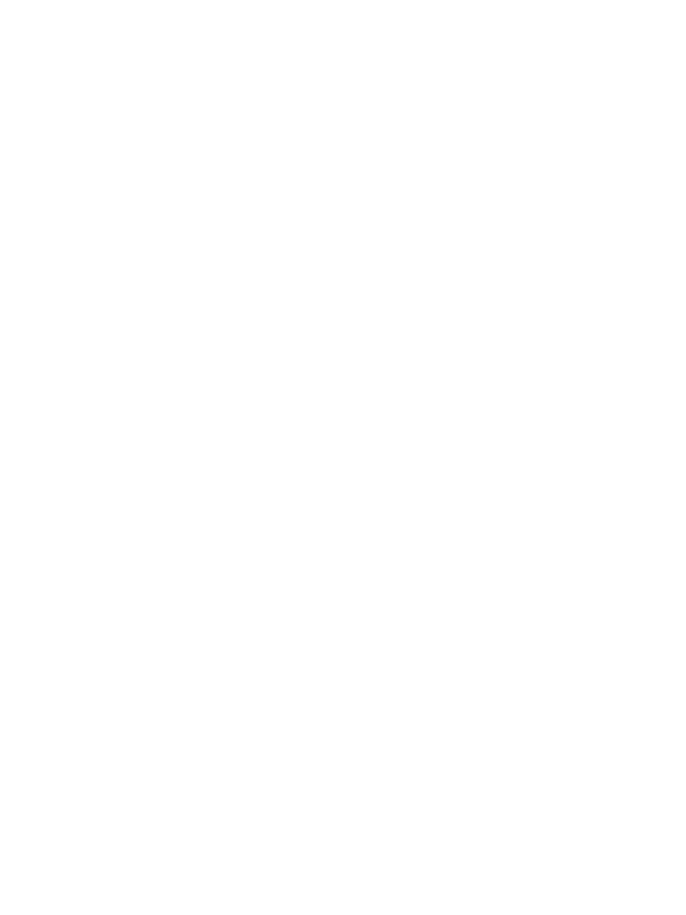
Литературные опыты
В 1773 году Радищев познакомился с журналистом и издателем Николаем Новиковым, который выпускал сатирический журнал «Живописец». В нем и вышли первые работы Радищева: перевод книги Мабли «Размышления о греческой истории», сочинение «Офицерские упражнения» и наброски будущего «Путешествия из Петербурга в Москву».
Он состоял в кружке Ивана Рахманинова и «Обществе друзей словесных наук». В журнале общества — «Беседующем гражданине» — выходили общественно-политические и философские статьи Радищева. «Бунтовщик хуже Пугачева»: публикация «Путешествия из Петербурга в Москву».
Знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищев писал почти девять лет: начал в 1780 году, а закончил только в 1788-м. Спустя год он попытался опубликовать произведение. Однако все московские типографы, к которым писатель обращался, отказывали, считая книгу слишком «опасной». В ней Радищев рассуждал о судьбе русского крестьянства и критиковал правительства. Крылатой фразой стал эпиграф «Путешествия» — неточная цитата из «Телемахиды» Василия Тредиаковского об адском страже, псе Цербере: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». Многие современники Радищева посчитали, что с «чудищем» Радищев сравнивал крепостное право. Чтобы выпустить книгу, писатель создал собственную типографию — открыл ее в «верхних покоях» своего дома на улице Грязной (ныне Марата) в Петербурге. Здесь, на печатном станке, выкупленном у книгопродавца Ивана Шнора, Радищев напечатал «Путешествие из Петербурга в Москву». Разрешение он получил от петербургского обер-полицмейстера Никиты Рылеева, который даже не прочитал рукопись: в те годы был очень популярен жанр сентиментального путешествия, а формально книга соответствовала его канонам. Цензор посмотрел оглавление и решил, что это очередной путеводитель по окрестностям столиц.
Книга была отпечатана в последних числах мая 1790 года и к началу лета поступила в книжную лавку Зотова. Позднее, на допросе, Радищев говорил о тираже: «Напечатано было ее не более как шестьсот сорок или пятьдесят экземпляров». Спустя две-три недели после выхода книги о ней уже говорил весь Петербург: произведение читали и перечитывали, передавали из рук в руки и неустанно обсуждали. К концу июня «Путешествие из Петербурга в Москву» прочитала императрица Екатерина II и немедленно отреагировала:
Ея императорское величество, сведав о вышедшей недавно книге под заглавием Путешествие из Петербурга в Москву, оную читать изволила и, нашед ея наполненною разными дерзостными изражениями, влекущими за собой разврат, неповиновение власти и многия в обществе расстройства, указала исследовать о сочинителе сей книги.
Все найденные экземпляры по решению полиции были конфискованы и сожжены. Произведение смогли издать в России небольшим тиражом в 100 экземпляров только спустя столетие после написания, в 1888 году. Окончательно запрет на печать был снят только после Первой русской революции 1905–1907 годов. До этого момента книга ходила в списках.
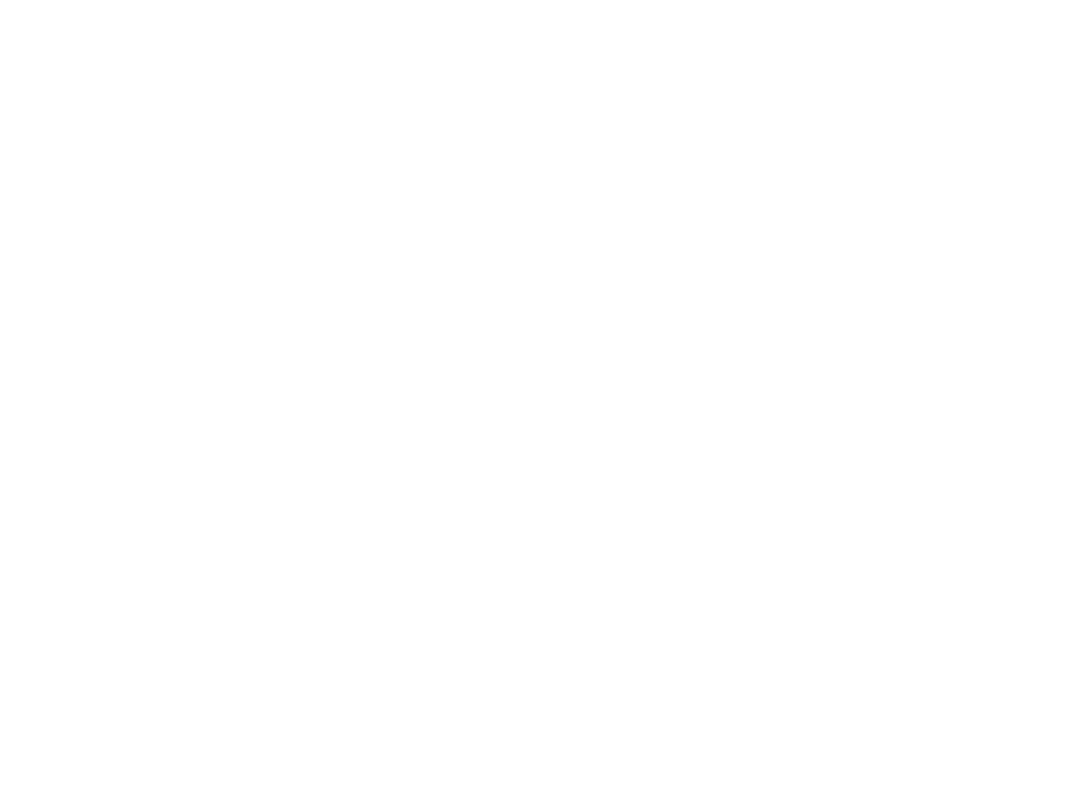
Масонский знак на церкви Макария Египетского при Горном институте
Здание церкви Макария Египетского при Горном институте ( 21 линия В.О.) также украшает лучезарная дельта. На это есть следующее объяснение. Масонство зародилось в среде средневековых ремесленных гильдий и тесно связано с представителями строительных профессий. Даже название "масон" происходит от "franc mason", что в переводе с французского означает "вольный каменщик". А Горный институт, образованный в 1773 году и называвшийся тогда Горным училищем являлся кузницей кадров для строительной индустрии.
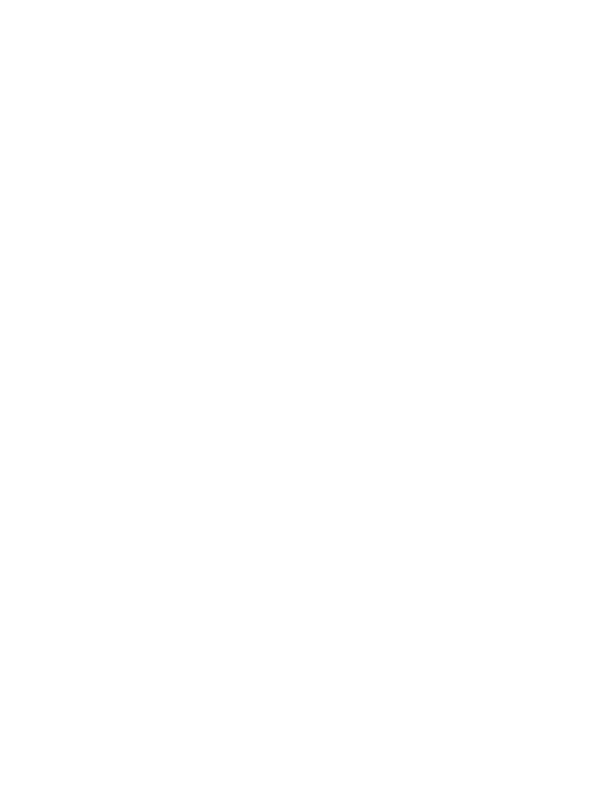
Дом архитектора Виктора Шрётера (наб.реки Мойки,д.112), построенный им для своей семьи в 1881 году, украшает знакомый всем масонам знак: скрещенные циркуль и угольник (наугольник). Эти символы, прежде всего, олицетворяют причастность к строительным профессиям, коими и были масоны - "вольные каменщики".
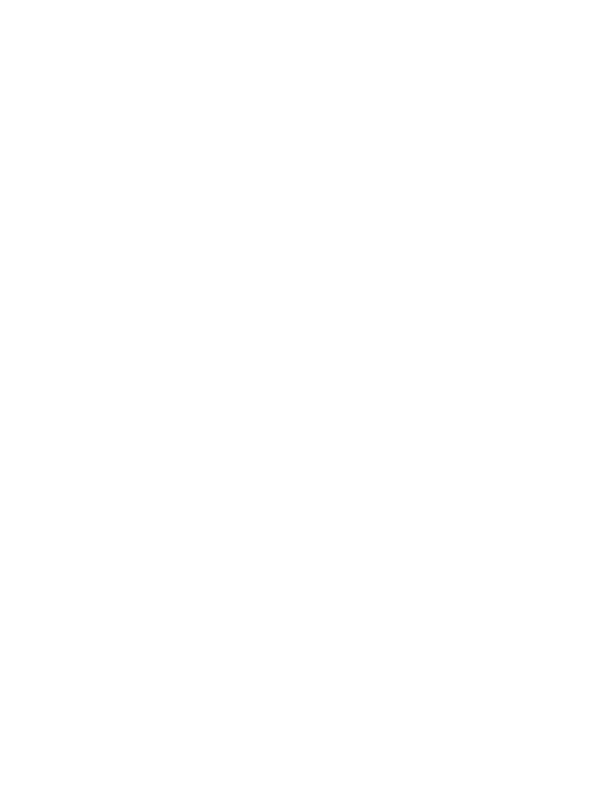
1. Авpех А.Я. Масоны и революция. – М.: Политиздат, 1990.
2. Арансон Г. Масоны в русской политике// Николаевский Б.И. Русские масоны и pеволюция. – М.: Теppа, 1990.
3. Бакунина Т. А. Знаменитые русские масоны. – М., 1991.
